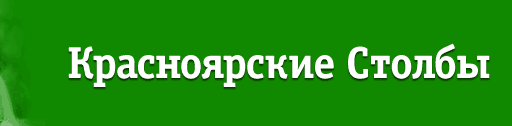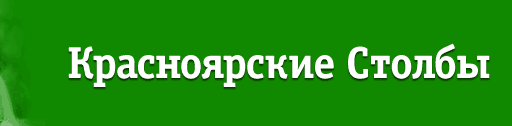1900 г. Взорваны скалы в Моховом
|
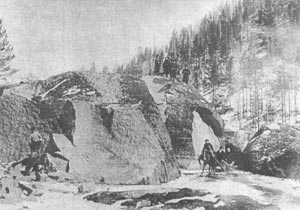
|
В Моховом ущелье были
взорваны сиенитовые гроты, спускавшиеся
от «Позвонка» к ключу, и легендарные,
редчайшей красоты скалы, носившие
название «Кизям», воспетые писателем-красноярцем
В. Анучиным в легенде «Такмак». За сорок
лет до этого ими любовались геолог П.
Чихачев, затем путешественник Г. Потанин,
собравший в 60-х годах прошлого столетия
богатые материалы о «красноярском
воеводстве». В 1890 году под своды «Кизям»
была проведена экскурсия
преподавательского состава и учащихся
первой в Енисейской губернии «Воскресной
женской школы». В 1894 году были сделаны
фотографические снимки, дающие
представление об этом живописном уголке. И
вот в угоду наживе эти скалы были
разрушены до основания.
Небольшой утес «Оленок», поразительно
напоминавший животное с поднятой головой,
словно принюхивавшееся к доносящимся из
лога запахам, тоже подвергся уничтожению.
От него осталась только глыба в 150 — 200 тонн
весом. Было взорвано несколько огромных
камней и у северного подножия «Второго
Столба».
Трудно сказать, сколько времени
продолжалось бы варварское разрушение
утесов, имеющих большую эстетическую и
геологическую ценность, если бы не
энергичные протесты населения
Красноярска. К губернатору обращались не
только отдельные лица, но и организации («Общество
попечения о начальном образовании», «Красноярская
лига образования», Правление учительского
дома просвещения и другие). Благодаря их
настояниям разрушение было остановлено,
но еще в течение трех последующих лет к
берегу Енисея возили гранитные плиты, а
через некоторое время началась массовая
рубка лесного массива, составляющего
красоту и большую ценность «Столбов».
Источник: И.Беляк.
Край причудливых скал. «Столбизм» в период
с 1910 по 1920 год |
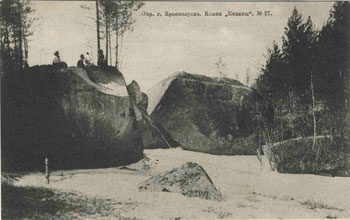 Под названием "Кызямы" у
красноярцев и базайцев известна была группа камней в долине живописной речки
Моховой, всего в одном километре от ее слияния с речкой Базаихой. Камни лежали в
самом ложе речки. Теперь их уже нет, они взорваны. Их части, обтесанные под
определенную нужную в строительстве форму, вывезли из Моховского ущелья, а на их
месте остался лишь мелкий щебень, да и тот постепенно исчезает, выносимый водами
речки.
Под названием "Кызямы" у
красноярцев и базайцев известна была группа камней в долине живописной речки
Моховой, всего в одном километре от ее слияния с речкой Базаихой. Камни лежали в
самом ложе речки. Теперь их уже нет, они взорваны. Их части, обтесанные под
определенную нужную в строительстве форму, вывезли из Моховского ущелья, а на их
месте остался лишь мелкий щебень, да и тот постепенно исчезает, выносимый водами
речки.
<...>
Подрядчиком по поставке камня с
Моховой оказался Сазонт Васильевич Телегин, приехавший к этому времени из
Енисейска. Мы не имеем точных дат начала и конца работ на "Кызямах", о
количестве вывезенного камня, об условиях труда. Знаем кое-что от старожилов и
судим о разработках камня, просматривая старые фотографии и изданные по ним
открытки различных издательств, начиная с 1902 года более или менее регулярно
продаваемых в Красноярске и по станциям железных дорог на восток и на запад от
города. Сначала на открытках печатались в названии «Кызямы», позднее «Кизямы», а
еще позднее это уже мало понятное название просто выпало и заменилось названием
«каменоломня». Название утрачивалось вместе с уходящими в вечность людьми и
разрушением камней.
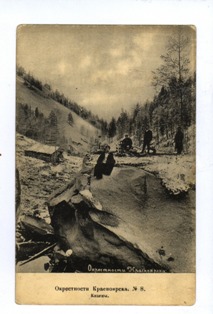 На одной из открыток (Изд. книж.,
магаз. М.И.Григоровской в Красноярске) наверху одного из Кызямских камней у
тагана будущего костра сидит сам подрядчик Телегин, бородатый, полный человек в
теплом пальто и картузе с кокардой, которая говорит о его в то же время и
государственной должности как подрядчика. Рядом объемистая плетеная корзинка со
снедью. Ближе к фотоаппарату какой-то чиновник с большой кокардой на фуражке, с
накинутой на плечи кавказской буркой, видимо инженер. Справа от подрядчика стоит
в пиджаке и без головного убора каменотес (итальянец?). Правее его - крестьянин
в однорядке и шапке, он с топором в руке и, видимо, собрался нарубить для костра
дров. У подножья камня фигура человека с усами в полушубке и белой папахе. Это,
несомненно, какая-то административная единица на месте. Странным может
показаться присутствие итальянца в условиях такого уголка, каким была речка
Моховая в то время. Таежное захолустье. Однако ларчик открывался просто.
Несмотря на большое разнообразие горных пород в окрестностях Красноярска они в
то же время не были эксплуатируемы красноярцами; их только начинали осваивать
как массу, а придавать камню ту или иную нужную форму вовсе не умели. Выручали
заезжие итальянцы, хорошо зарабатывавшие на огранке и шлифовке камня. Их
постоянно можно было видеть вблизи домика на горе против кладбища, где они
отбивали для надгробий плиты из известняка, песчаника, а позже из гранита,
сиенита и мрамора. Позднее один из них Джузеппе Редельфи, звавшийся по-русски
почему-то Иосифом Антоновичем, имел свою мастерскую надгробий и железных решеток
в городе. Он же участвовал в поставке камня и для железной дороги. К ним-то и
обратились строители железной дороги. По существу это были учителя, а уже после
них появились свои каменотесы: Мухины, Шахматовы, Воротниковы и др. Да и
добывавшийся до этого камень торгашинский бутовый песчаник чуть ли не целиком
шел на выкладку фундаментов домов, а известняк (дикарь) слабо расколотый шел на
обжиг для извести. Вот почему и здесь на Моховой появился итальянец.
На одной из открыток (Изд. книж.,
магаз. М.И.Григоровской в Красноярске) наверху одного из Кызямских камней у
тагана будущего костра сидит сам подрядчик Телегин, бородатый, полный человек в
теплом пальто и картузе с кокардой, которая говорит о его в то же время и
государственной должности как подрядчика. Рядом объемистая плетеная корзинка со
снедью. Ближе к фотоаппарату какой-то чиновник с большой кокардой на фуражке, с
накинутой на плечи кавказской буркой, видимо инженер. Справа от подрядчика стоит
в пиджаке и без головного убора каменотес (итальянец?). Правее его - крестьянин
в однорядке и шапке, он с топором в руке и, видимо, собрался нарубить для костра
дров. У подножья камня фигура человека с усами в полушубке и белой папахе. Это,
несомненно, какая-то административная единица на месте. Странным может
показаться присутствие итальянца в условиях такого уголка, каким была речка
Моховая в то время. Таежное захолустье. Однако ларчик открывался просто.
Несмотря на большое разнообразие горных пород в окрестностях Красноярска они в
то же время не были эксплуатируемы красноярцами; их только начинали осваивать
как массу, а придавать камню ту или иную нужную форму вовсе не умели. Выручали
заезжие итальянцы, хорошо зарабатывавшие на огранке и шлифовке камня. Их
постоянно можно было видеть вблизи домика на горе против кладбища, где они
отбивали для надгробий плиты из известняка, песчаника, а позже из гранита,
сиенита и мрамора. Позднее один из них Джузеппе Редельфи, звавшийся по-русски
почему-то Иосифом Антоновичем, имел свою мастерскую надгробий и железных решеток
в городе. Он же участвовал в поставке камня и для железной дороги. К ним-то и
обратились строители железной дороги. По существу это были учителя, а уже после
них появились свои каменотесы: Мухины, Шахматовы, Воротниковы и др. Да и
добывавшийся до этого камень торгашинский бутовый песчаник чуть ли не целиком
шел на выкладку фундаментов домов, а известняк (дикарь) слабо расколотый шел на
обжиг для извести. Вот почему и здесь на Моховой появился итальянец.
<...>
Позднее все большие камни были
взорваны и вывезены, а осколки и куски были сложены в штабеля, которые долго еще
лежали там и сям в долине Моховой на месте бывших "Кызям". Они постепенно
распадались из этих штабелей, но никто их долго не подбирал. Наконец в одну из
зим их вывезли и на месте бывших "Кызям" осталось пустое место, как всегда после
всяких вмешательств человека в природу, заросшее всякой сорной растительностью.
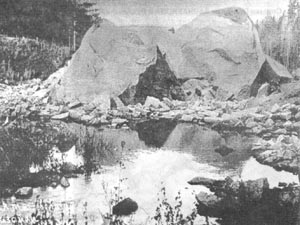 Впоследствии с заготовками
камня по Моховой перешли к подножью Такмака. Рвали, камни, отдельно лежащие на
такмаковском склоне. Так однажды Мухин и Рудковский, заложив полпуда пороха,
взорвали один камень с юго-восточной стороны Такмака у его подножья. Рвали камни
и в других местах. Если подниматься Семеновым ложком с севера от Базаихи в седло
между большим и малым Такмаками, то у вершины лежит раздвоенный камень. Это тоже
результат какой-то старой попытки взрыва.
Впоследствии с заготовками
камня по Моховой перешли к подножью Такмака. Рвали, камни, отдельно лежащие на
такмаковском склоне. Так однажды Мухин и Рудковский, заложив полпуда пороха,
взорвали один камень с юго-восточной стороны Такмака у его подножья. Рвали камни
и в других местах. Если подниматься Семеновым ложком с севера от Базаихи в седло
между большим и малым Такмаками, то у вершины лежит раздвоенный камень. Это тоже
результат какой-то старой попытки взрыва.
Если сопоставить освоение
столбов с освоением «Кызям», то мы вправе задать и такой вопрос: кто первый
открыл "Кызямы" для нашего местного туризма? Но ответа, видимо, не будет.
Скупая история не дает нам его имени.
Просматривая фотодокументацию
по изданным и неиздаваемым снимкам "Кызям", расположив их в хронологическом
порядке их состояния (но не по годам издательства), мы как бы присутствуем на их
постепенном исчезновении, длившемся с перерывами шестьдесят лет.
К сожалению, в то время, видимо, некому было вступиться за красивые камни, и
они исчезли с лица земли.
После долгого перерыва, в 1957 году в этих же местах по Моховой вновь
начались разработки камня для вновь строящегося моста через Енисей. Строители
нового моста решили использовать окружение города в качестве базы каменного
сырья и их взоры, прежде всего, устремились в долину речки Моховой.
После долгих перипетий с начальством государственного заповедника "Столбы", в
ведение которого входит эта речка и дойдя в ходатайствах обеих сторон до
центральных санкций, дело повернулось в пользу строителей. Им было разрешено
использовать недра в основании подошвы Ермаковского хребта, где когда-то уже
были каменные карьеры.
И вот при помощи современной техники от врубовой машины до пневматики идет
заготовка камня, которая будет продолжаться не один год.
Источник: А.Яворский. Кызямы
 Все материалы по теме: Все материалы по теме:



| |